Twenty-second Entry
TOPICS:
Congealed Waves – Everything Is Being Perfected – I Am a Microbe
The building of the Integral will be completed in one hundred and twenty days. The great historic hour when the first Integral will soar into cosmic space is drawing near. One thousand years ago your heroic ancestors subdued the entire terrestrial globe to the power of the One State. Yours will be a still more glorious feat: you will integrate the infinite equation of the universe with the aid of the fire-breathing, electric, glass Integral. You will subjugate the unknown beings on other planets, who may still be living in the primitive condition of freedom, to the beneficent yoke of reason.
Через 120 дней заканчивается постройка ИНТЕГРАЛА. Близок великий, исторический час, когда первый ИНТЕГРАЛ взовьется в мировое пространство. Тысячу лет тому назад ваши героические предки покорили власти Единого Государства весь земной шар. Вам предстоит еще более славный подвиг: стеклянным, электрическим, огнедышащим ИНТЕГРАЛОМ проинтегрировать бесконечное уравнение Вселенной. Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах — быть может, еще в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несем им математически безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми. Но прежде оружия мы испытаем слово.
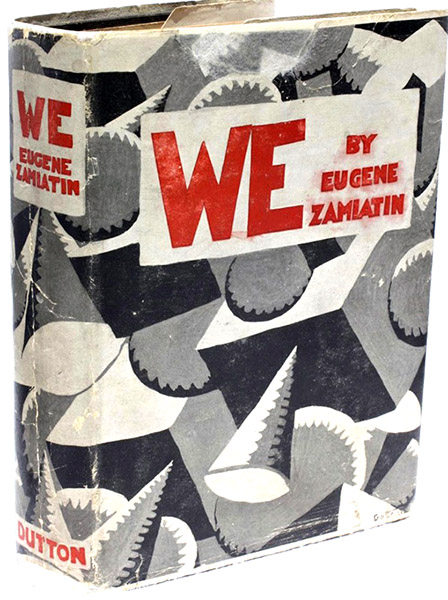
Imagine yourself standing on the shore: the waves rise rhythmically, then, having risen, suddenly remain there— frozen, congealed. It seemed just as eerie and unnatural when our daily walk, prescribed by the Table of Hours, suddenly halted midway, and everyone was thrown into confusion. The last time something similar happened, according to our annals, was 119 years ago, when a meteorite dropped, smoking and whistling, right into the thick of the marching rows.
We walked as usual, in the manner of the warriors on Assyrian reliefs: a thousand heads, two fused, integral feet, two integral, swinging arms. At the end of the avenue, where the Accumulator Tower hummed sternly, a rectangle moved toward us. In front, behind, and on the sides—guards; in the middle—three people, the golden numbers already removed from their unifs. And everything was terrifyingly clear.
The huge clock atop the Tower was a face; leaning from the clouds, spitting down seconds, it waited indifferently. And then, exactly at six minutes past thirteen, something went wrong in the rectangle. It happened quite near me, and I saw every detail; I clearly remember the thin long neck and the network of blue veins on the temple, like rivers on the map of some tiny unknown world, and this unknown world was evidently a very young man. He must have noticed someone in our ranks; rising to his toes, he stretched his neck, and stopped. A click: one of the guards sent the blue spark of an electric whip across him, and he squealed thinly, like a puppy. Then—a series of distinct clicks, about every two seconds: a dick, and a squeal, a click, and a squeal.
We continued our rhythmic, Assyrian walk, and, looking at the graceful zigzags of the sparks, I thought: Everything in human society is being continually perfected—and should be. What a hideous weapon was the ancient whip—and how beautiful …
But at this moment, like a nut slipping off a machine in full swing, a slender, pliant female figure broke from our ranks and with the cry “Enough! Don’t dare to … !” she threw herself into the midst of the rectangle. It was like that meteor, 119 years ago: the whole procession stopped dead, and our ranks were like the gray crests of waves congealed by a sudden frost.
For a moment I looked at her as a stranger, like everyone else. She was no longer a number—she was only a human being, she existed only as the metaphysical substance of an insult thrown in the face of the One State. But then one of her movements—turning, she swung her hips to the left—and all at once I felt: I know, I know this body, pliant as a whip! My eyes, my lips, my arms know it! At that moment I was completely certain of it.
Two of the guards stepped out to intercept her.
In a second, their trajectories will cross over that still limpid, mirrorlike point of the pavement—in a moment she will be seized. . . . My heart gulped, stopped, and without reasoning—is it allowed, forbidden, rational, absurd?—I flung myself toward that point.
I sensed upon me thousands of terrified, wide-open eyes, but this merely fed the desperate, gay, exulting strength of the hairy-armed savage who broke out of me, and he ran still faster. Only two steps remained. She turned….
Before me was a trembling, freckled face, red eyebrows…. It was not she, not I-330.
Wild burst of joy. I wanted to cry out something like “Right, hold her!” but I heard only a whisper. And on my shoulder—a heavy hand. I was held, I was being taken somewhere, I tried to explain to them. … “But listen, but you must understand, I thought that…”
But how explain all of myself, all of my sickness, recorded in these pages? And I subsided and walked obediently. … A leaf torn off a tree by a sudden blast of wind obediently falls downward, but on the way it whirls, catches at every familiar branch, fork, knot And I, too, was catching at every silent spherical head, at the transparent ice of the walls, at the blue spire of the Accumulator Tower piercing a cloud. At that moment, when an impenetrable curtain was just about to cut me off from this whole, beautiful world, I saw nearby, swinging his pink ear-wings, gliding over the mirror-smooth pavement, a huge, familiar head. And a familiar, flattened voice: “It is my duty to inform you that Number D-503 is ill and incapable of controlling his emotions. And I am sure that he was carried away by natural indignation….”
“Yes, yes.” I seized at it. “I even cried ‘Hold her!'” Behind my back: “You did not cry anything.”
“Yes, but I wanted to—I swear by the Benefactor, I did.”
For a second the gray, cold gimlet-eyes drilled through me. I don’t know whether he saw within me that this was (almost) the truth, or whether he had some secret purpose of his own in sparing me again for a while, but he wrote out a note and gave it to one of those who held me. And I was free again, or, to be more exact, was returned again to the regular, endless Assyrian ranks.
The rectangle, containing both the freckled face and the temple with the map of bluish veins, disappeared around the corner, forever. We walked— a single million-headed body, and within each of us—that humble joy which probably fills the lives of molecules, atoms, phagocytes. In the ancient world this was understood by the Christians, our only predecessors (however imperfect) : humility is a virtue, and pride a vice; “We” is from God, and “I” from the devil.
And now I was marching in step with everyone— yet separated from them. I still trembled from the recent excitement, like a bridge after an ancient iron train rushed, clattering, across it. I felt myself. But only an eye with a speck of dust in it, an abscessed finger, an infected tooth feel themselves, are aware of their individuality; a healthy eye, finger, tooth are not felt—they seem nonexistent Is it not clear that individual consciousness is merely a sickness?
Perhaps I am no longer a phagocyte, busily and calmly devouring microbes (with bluish temples and freckles). Perhaps I am a microbe, and perhaps there are already thousands of them among us, still—like myself—pretending to be phagocytes…
What if today’s essentially unimportant incident … what if it is only a beginning, only the first meteorite of a hail of thundering fiery rocks poured by infinity upon our glass paradise?
Запись 22-я
Вы представьте себе, что стоите на берегу: волны — мерно вверх; и поднявшись — вдруг так и остались, застыли, оцепенели. Вот так же жутко и неестественно было и это — когда внезапно спуталась, смешалась, остановилась наша, предписанная Скрижалью, прогулка. Последний раз нечто подобное, как гласят наши летописи, произошло 119 лет назад, когда в самую чащу прогулки, со свистом и дымом, свалился с неба метеорит.
Мы шли так, как всегда, т. е. так, как изображены воины на ассирийских памятниках: тысяча голов — две слитных, интегральных ноги, две интегральных, в размахе, руки. В конце проспекта — там, где грозно гудела аккумуляторная башня, — навстречу нам четырехугольник: по бокам, впереди, сзади — стража; в середине трое, на юнифах этих людей — уже нет золотых нумеров — и все до жути ясно.
Огромный циферблат на вершине башни — это было лицо: нагнулось из облаков и, сплевывая вниз секунды, равнодушно ждало. И вот ровно в 13 часов и 6 минут — в четырехугольнике произошло замешательство. Все это было совсем близко от меня, мне видны были мельчайшие детали, и очень ясно запомнилась тонкая, длинная шея и на виске — путаный переплет голубых жилок, как реки на географической карте маленького неведомого мира, и этот неведомый мир — видимо, юноша. Вероятно, он заметил кого-то в наших рядах: поднялся на цыпочки, вытянул шею, остановился. Один из стражи щелкнул по нему синеватой искрой электрического кнута; он тонко, по-щенячьи, взвизгнул. И затем — четкий щелк, приблизительно каждые 2 секунды — и взвизг, щелк — взвизг.
Мы по-прежнему мерно, ассирийски, шли — и я, глядя на изящные зигзаги искр, думал: “Все в человеческом обществе безгранично совершенствуется — и должно совершенствоваться. Каким безобразным орудием был древний кнут — и сколько красоты…”
Но здесь, как соскочившая на полном ходу гайка, от наших рядов оторвалась тонкая, упруго-гибкая женская фигура и с криком: “Довольно! Не сметь!” — бросилась прямо туда, в четырехугольник. Это было — как метеор — 119 лет назад: вся прогулка застыла, и наши ряды — серые гребни скованных внезапным морозом волн.
Секунду я смотрел на нее посторонне, как и все: она уже не была нумером — она была только человеком, она существовала только как метафизическая субстанция оскорбления, нанесенного Единому Государству. Но одно какое-то ее движение — заворачивая, она согнула бедра налево — и мне вдруг ясно: я знаю, я знаю это гибкое, как хлыст, тело — мои глаза, мои губы, мои руки знают его, — в тот момент я был в этом совершенно уверен.
Двое из стражи — наперерез ей. Сейчас — в пока еще ясной, зеркальной точке мостовой — их траектории пересекутся, — сейчас ее схватят… Сердце у меня глотнуло, остановилось — и не рассуждая: можно, нельзя, нелепо, разумно, — я кинулся в эту точку…
Я чувствовал на себе тысячи округленных от ужаса глаз, но это только давало еще больше какой-то отчаянно-веселой силы тому дикому, волосаторукому, что вырвался из меня, и он бежал все быстрее. Вот уже два шага, она обернулась —
Передо мною дрожащее, забрызганное веснушками лицо, рыжие брови… Не она! Не I.
Бешеная, хлещущая радость. Я хочу крикнуть что-то вроде: “Так ее!”, “Держи ее!” — но слышу только свой шепот. А на плече у меня — уже тяжелая рука, меня держат, ведут, я пытаюсь объяснить им…
— Послушайте, но ведь вы же должны понять, что я думал, что это…
Но как объяснить всего себя, всю свою болезнь, записанную на этих страницах. И я потухаю, покорно иду… Лист, сорванный с дерева неожиданным ударом ветра, покорно падает вниз, но по пути кружится, цепляется за каждую знакомую ветку, развилку, сучок: так я цеплялся за каждую из безмолвных шаров-голов, за прозрачный лед стен, за воткнутую в облако голубую иглу аккумуляторной башни.
В этот момент, когда глухой занавес окончательно готов был отделить от меня весь этот прекрасный мир, я увидел: невдалеке, размахивая розовыми руками-крыльями, над зеркалом мостовой скользила знакомая, громадная голова. И знакомый, сплющенный голос:
— Я считаю долгом засвидетельствовать, что нумер Д-503 — болен и не в состоянии регулировать своих чувств. И я уверен, что он увлечен был естественным негодованием…
— Да, да, — ухватился я. — Я даже крикнул: держи ее!
Сзади, за плечами:
— Вы ничего не кричали.
— Да, но я хотел — клянусь Благодетелем, я хотел.
Я на секунду провинчен серыми, холодными буравчиками глаз. Не знаю, увидел ли он во мне, что это (почти) правда, или у него была какая-то тайная цель опять на время пощадить меня, но только он написал записочку, отдал ее одному из державших меня — и я снова свободен, т. е., вернее, снова заключен в стройные, бесконечные, ассирийские ряды.
Четырехугольник, и в нем веснушчатое лицо и висок с географической картой голубых жилок — скрылись за углом, навеки. Мы идем — одно миллионноголовое тело, и в каждом из нас — та смиренная радость, какою, вероятно, живут молекулы, атомы, фагоциты. В древнем мире — это понимали христиане, единственные наши (хотя и очень несовершенные) предшественники: смирение — добродетель, а гордыня — порок, и что “МЫ” — от Бога, а “Я” — от диавола.
Вот я — сейчас в ногу со всеми — и все-таки отдельно от всех. Я еще весь дрожу от пережитых волнений, как мост, по которому только что прогрохотал древний железный поезд. Я чувствую себя. Но ведь чувствуют себя, сознают свою индивидуальность — только засоренный глаз, нарывающий палец, больной зуб: здоровый глаз, палец, зуб — их будто и нет. Разве не ясно, что личное сознание — это только болезнь?
Я, быть может, уже не фагоцит, деловито и спокойно пожирающий микробов (с голубым виском и веснушчатых): я, быть может, микроб, и, может быть, их уже тысяча среди нас, еще прикидывающихся, как и я, фагоцитами…
Что, если сегодняшнее, в сущности, маловажное происшествие, — что, если все это только начало, только первый метеорит из целого ряда грохочущих горящих камней, высыпанных бесконечностью на наш стеклянный рай?

